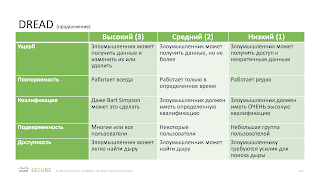Вы обращали внимание на снижение качества нормативных документов от наших регуляторов? Когда смотришь в сторону только одного регулятора или одной сферы регулирования это не так заметно. Но когда пропускаешь через себя творчество всех органов исполнительной власти, то это очень сильно бросается в глаза. И дело не столько в синтаксических или орфографических ошибках, сколько в большом числе нестыковок, неточных и непонятных формулировок, которые требуют разъяснений от их автора, которые, конечно же, никаких пояснений не дают.
Давайте к примерам? Возьмем методику оценки угроз ФСТЭК, утвержденную 5-го февраля этого года. ЭТОГО! Но уже известно, что регулятор готовит в нее поправки. Документу от силы было полгода, когда регулятор решил вносить в него изменения, которые, согласно публичным высказываниям регулятора, планируют утвердить в первом квартале уже следующего года. У Банка России такая же проблема. 716-П по рискам вступило в силу 1-го октября прошлого года, но уже готов проект с поправками в него на 30+ (!) страниц. Не это ли свидетельство того, что документ получился сложным для восприятия? Ну а как может быть иначе, когда у вас нормативный акт занимает 130 страниц и к нему еще готовится ГОСТ на 180 страниц. 300 страниц (!), которые можно было бы изложить на одной странице формата А4! И это только один пример - у ЦБ таких косяков просто масса (отдельный пост им посвящу). РКН со своим 1046-м Постановление Правительства по надзору в области персональных данных тоже накосячил - и в расширительном толковании отдельных терминов, и синтаксических ошибках. И это только три примера, которые достаточно свежие и от разных регуляторов, но их ведь гораздо больше.
Как с этим бороться? На мой взгляд вариантов решения проблемы всего несколько. Первый - сформировать пул лояльных специалистов, которые не будут зависеть от регулятора, и через которых можно было бы пропускать проекты нормативки с обещанием принять всю критику и постараться ее исправить. Причем делать это адресно в обе стороны, а не так обезличенно, как это сейчас работает на regulations.gov.ru. Хотя где найти таких специалистов в достаточном количестве? Все же реально ссут сказать что-то супротив регулятора, от которого зависит сертификация выпускаемых твоей компанией продуктов или обновление/расширение лицензии или еще какие-то ништяки. Надо сказать, что это не совсем проблема регулятора, что у нас исторически все боятся сказать что-то против политики партии, но и его тоже - он же поощряет ее.
Второй вариант - при выходе каждого нормативного акта давать переходный период в 6-12 месяцев на его апробацию и без введения его в контур обязательных требований. Тогда первые желающие смогут попробовать что-то сделать, наступить на все грабли и сообщить о них регулятору, который внесет поправки в свои документы и выпустит уже гораздо более проработанный с точки зрения практики документ. Но и тут есть подводные камни. Не все захотят по доброй воле апробировать необязательные пока еще нормативные требования. А потом нужно время на повторную регистрацию документов в МинЮсте, что занимает много времени (сейчас доходит до шести месяцев). Ну и проблема "бесстрашных" рецензентов из предыдущего пункта тоже никуда не девается.
Можно попробовать пропустить документ через маленькие предприятия, в том числе поднадзорные, чтобы понять, насколько написанное реализуемо с малыми ресурсами. Такое замечание было очень частым после принятия ЦБшного ГОСТа 57580.1, который рассчитан на крупные финансовые организации, которые и принимали участие в его написании. Но и тут нас поджидают упомянутые ранее подводные камни.
Хорошей практикой является обучение. Есть высказывание, что когда начинаешь готовить материал для обучения и преподавать, то начинаешь лучше разбираться в вопросе (а почему я так активно преподаю, а?). А когда начинаешь рассказывать, что же ты имел ввиду в документе по 10 раз перед разными людьми, тогда лучше начинаешь понимать и область регулирования и свои корявые формулировки. Можно, конечно, сделать вариант-минимум - читать перед подчиненными, но они же правду в глаза не скажут все равно. Поэтому только публичная активность, но на это рассчитывать не приходится - не приучен у нас регулятор к публичной критике, а еще и отомстить может.
Пятый вариант заключается в том, чтобы попробовать сферического коня в вакууме в своем загоне, то есть в самом регуляторе. Вот выпустил ДИБ положение 716-П по рискам - так ты сначала его пропусти через своих ИТшников и ИБшников и посмотри, что они тебе скажут (ничего хорошего, кстати, не скажут). Вот выпустил ты методику по оценке угроз - так ты ее сначала на себе опробуй и выложи в качестве примера разработанный по методике документ. Причем обязательно, чтобы реализовывал нормативные требования не их автор, а лицо, которое впервые эти требования увидит.
Вот тогда у нас начнет реализовываться хотя бы один из озвученных вариантов, а лучше все вместе, тогда у нас качество документов сильно поднимется и претензий к регуляторам станет гораздо меньше. Если их, конечно, это волнует.